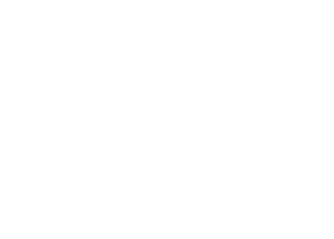Век живи – век учись. Ни сном, ни духом не подозревал, что наравне с всамделишным существует и шуточный календарь праздников. И в нем 12 февраля отмечен как День интеллигента. Подумалось, и вправду – только шутить и остается над интеллигенцией – этим разношерстным социальным слоем общества, представителей которого в переломные моменты обозримой истории нашего Отечества раз за разом вырезали, выжигали каленым железом, истребляли, а он вновь и вновь возрождался как Феникс из пепла.
Все это, конечно, было бы смешно, если бы не было так трагично, и, наверное, Дню интеллигента не место в шутливом календаре знаменательных дат. Для нас же это – лишний повод поговорить об этом. Несмотря на то, что этимология понятия «интеллигенция» уходит корнями в латынь, настоящую жизнь как морально-этический феномен оно обрело только в России. «Отцом» российской интеллигенции обычно считают Петра Великого, который создал условия для проникновения в Россию идей западного просвещения. Вместе с просвещением в страну занесли и семена вольнодумства, которые взросли и широким полем заколосились в девятнадцатом веке. Власть не понимала идей производителей «духовных ценностей», находила в них опасность для своего существования, что приводило нередко к жестоким противостояниям, венцом которых становились кровавые революции. Остатки «образованных, умственно развитых классов общества» (по словарю Брокгауза и Ефрона) после октябрьской мясорубки 17-го года надолго затаились в тени, не казали носа без лишней нужды перед победителями, верхушка которых (вот ведь парадокс!) сама состояла из интеллигенции. Но, разрушив «все до основания», долго терпеть рабочекрестьянскую разухабистую удаль не получилось и пришлось обратиться за помощью к «недобитым». Так, шаг за шагом, понемногу выходя из темниц, вдыхая чистый воздух, стала выкристаллизовываться интеллигенция советская, которая получила по «чайнику» уже в лихие девяностые…
Социальное мессианство, озабоченность судьбами своего Отечества, стремление к безудержной критике, оторванной от реальности, способность нравственно сопереживать «униженным и оскорбленным», культивирование покаяния и самобичевания — какими только противоположными, взаимоисключающими признаками и чертами не наделяли интеллигенцию, на которую смотрели то с подозрением и презрением, то — с надеждой и глубоким уважением. Контраст, неоднозначность «интеллигентного человека», который производит благостное впечатление, «сеет разумное, доброе, вечное» и одновременно вызывает сомнения своим «витанием в облаках» стали притчей во языцех.
А как же ингуши, существует ли у нашего народа «интеллигентское» прошлое? Безусловно, оно было и есть. Ведь, помимо образованности, книжной начитанности и общего повышенного культурного уровня, что обычно характеризует интеллигента с сословной точки зрения, причастность к интеллигенции предполагает и мудрость, честность, гуманность. А какие у нас были мудрецы! Сколько их уничтожено, загублено только в последние сто-двести лет. Плоды последствий этой масштабной социально-культурной катастрофы нам придется долго еще пожинать, если, конечно (не дай Бог!), не грянет очередная. У ингушей есть поговорка, гласящая в вольном переводе, что «от части целого только часть и получится». Наверное, нам придется запастись терпением, пока в процессе исторической селекции поколений у нас не появятся «целые» потомки мудрецов и поныне являющихся для нас нравственными ориентирами, чьи жизненнофилософские послания, передаются из уст в уста, которые были и остаются совестью народа. «…Совесть принуждает, но принуждение совести является гарантией полной свободы человека, потому что совесть принуждает изнутри, все остальные принуждения — снаружи. Совесть является гарантом свободы человека интеллигента». Это слова великого человека, друга ингушского народа, академика Дмитрия Лихачева.